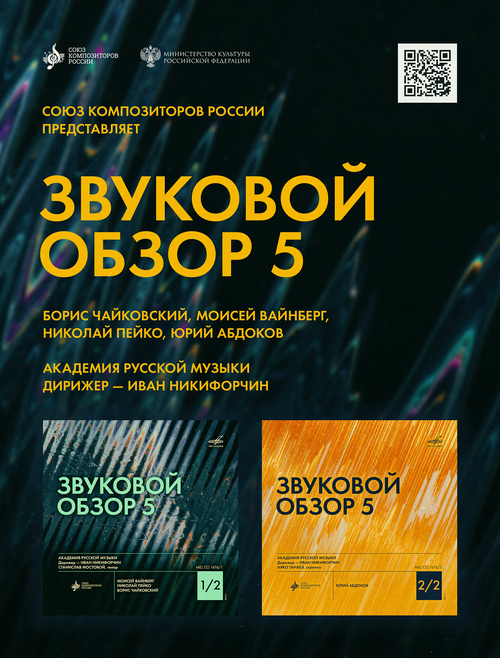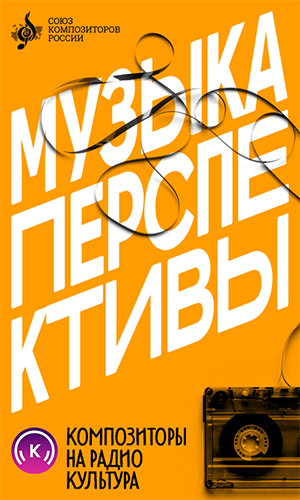Книг о музеях довольно много. Истории создания и приобретения коллекций, шедевры того или иного собрания, загадки картин и скульптур, наконец, руководства, как ходить в художественную галерею и не заскучать. Однако пока никто, кроме, может быть, узких специалистов, не исследовал выставочные пространства с точки зрения звука.
А меж тем современный музей многозвучен. Музыкальные произведения выступают комментарием к живописи. Аудиозаписи сопровождают видео-арт. Художники конструируют саунд-объекты, приглашая зрителей к сотворчеству, а перформеры используют свои тела как музыкальный инструмент. Музыка вырывается за пределы выставочных залов, приглашая посетителей на прогулку в мистический лес, послушать едва уловимую песнь берез.
В издательстве «Композитор» выходит новая книга Сергея Уварова, музыковеда и культуролога, автора нашумевшей работы о современных композиторах «Голос миллениалов». Он исследует, как звучит искусство, которое мы чаще всего наблюдаем в музеях и галереях. Знакомит читателей с самыми разными видами этого звучания, от классической живописи до тотальных инсталляций.
Находка автора — композиция повествования: оно плавно следует от медиума к медиуму, постепенно приглушая громкость вплоть до кейджевской тишины. Он преимущественно говорит о звуке в современном искусстве, но пусть этот факт не останавливает читателей, скептично настроенных к контемпорари-арту. Книга Уварова — не скучная лекция с перечислением имен и произведений, а приглашение к диалогу. Деликатно подсвечивая те или иные смыслы в перформативных актах, тотальных инсталляциях, саунд-объектах и видео-арте, он побуждает читателей к сотворчеству, а значит, и пониманию произведений контемпорари, уменьшению скепсиса и неприятия.
Громче всех звучат главы, посвященные музыкальному исполнению как сопровождению экспозиции или комментарию к определенному произведению. Сама идея объединить музыку и изобразительное искусство не нова. Вспомним церкви, католическую и православную. То, как сочетаются звуки органа и фрески, пение a capella и иконы, напрямую влияет на восприятие и переживание цельного религиозного опыта.
Вообще, разделение на концертные и выставочные залы — изобретение XIX века. До этого камерная музыка чаще всего звучала в домах и дворцах знати. Стены гостиных, бальных залов и музыкальных комнат украшали произведения искусства. Гости и обитатели дворцов наслаждались созерцанием полотен на исторические и мифологические темы под звуки сонат и ноктюрнов, пусть в этом и не было как таковой кураторской задумки.
Примечателен пример художника Василия Верещагина. Задумав провести в 1881 году в Вене выставку своих работ, он просит критика Владимира Стасова прислать ему ноты лирических композиций, церковных и русских народных. Посетители не видели самих музыкантов и хор, лишь слышали меланхоличные мелодии. Ужасы батальных сцен сопровождало, в частности, песнопение «Со святыми упокой», отрывок поминальной службы. Верещагин одним из первых в мире стал дополнять показ своих работ музыкальным комментарием, причем мелодии выбирались не иллюстрирующие картины, но уместно их дополняющие, порой создающие противопоставление. Сорок лет спустя принцип о контрапункте музыки и визуального ряда провозгласит режиссер Сергей Эйзенштейн. Правило это в игровом кино не станет основным, но позже перейдет в видео-арт, в частности в работы пионера направления Нам Джун Пайка.
Изобразительное искусство и музыка дополняют друг друга и помогают восприятию: если сложно всё время концентрироваться на картине, можно сосредоточиться на музыке, и наоборот. Испытать этот опыт достаточно легко в столичных музеях: в ГМИИ имени Пушкина уже сорок лет проходят «Декабрьские вечера Святослава Рихтера», Третьяковская галерея устраивает концерты камерной музыки VIVARTE и «Т Фестиваль». Здесь на цельное восприятие работает всё — от самой архитектуры и произведений искусства в экспозиции до выбора композиции. Похожий пример — фестиваль «Кантата» в Калининграде, где исполнители выступают в бывших кирхах и замках.
Ярко заявляет о себе и звук в перформансах. Здесь музыка может составлять неотъемлемую часть произведения. Например, во впечатляющей работе «Симбионт» Николая Голикова и Владимира Ермаченкова. В ней перформера подвешивают к странной конструкции, а его движения управляются слабыми разрядами тока. Конечности задевают стальные детали и издают звуки. Последовательность разрядов неслучайна: получившаяся музыка обладает логикой развития от разреженного звучания к более громкому и плотному. Таким образом, перформер сам становится музыкальным инструментом, повинуясь запрограммированной машине.
Приглушим громкость и вместе с художниками саунд-объектов и инсталляций поисследуем, как и почему рождается звук. Представьте, что вы могли бы услышать в самом центре Земли? В позднесоветское время был задуман проект Кольской сверхглубокой скважины: создатели планировали пробурить толщу земной коры и добраться до мантии. Им это не удалось. С распадом СССР работы остановили, шахту забросили. Художник Дмитрий Морозов (::vtol::) спустя четверть века обнаружил кусочек перфоленты. Он создал объект, оснащенный тремя мини-сверлами. Соприкосновение отверстий на перфоленте с камушками, найденными там же, на станции, рождает звуки. Совместная работа сверл создает ритмо-шумовую композицию. Концептуально произведение «12262», своеобразное возрождение Кольской сверхглубокой скважины, дополняет легенда об аудиозаписи, якобы полученной с помощью приемника колебаний. Говорили, что ученые будто бы услышали крики грешников из преисподней и поэтому спешно свернули проект.
Следуя за повествованием, его уменьшающейся громкостью, читатель вместе с автором то и дело подбирается к парадоксам звука: он агрессивен, ведь даже один звуковой объект неизбежно влияет на восприятие всей экспозиции. При этом нам могут помешать шум, скрип, разговоры других посетителей, а значит, звук одновременно беззащитен и уязвим. Звук вездесущ, но бывает и едва уловим, звук интерактивен и вместе с тем иллюзорен. Звук в музее — полноправный участник экспозиции, даже когда он — тишина.
Книга Сергея Уварова — попытка разобраться, как звучит музей, увенчавшаяся успехом. Пожалуй, лучшее, что можно сделать после прочтения, — это отправиться в галерею современного искусства или же на выставку классической живописи и постараться уловить, как именно музыка присутствует в экспозиции. Даже если она, подобно пьесе Джона Кейджа «4’33”», и состоит из естественных звуков: негромких шагов, поскрипывания паркета, тихого гула климат-контроля и приглушенных голосов посетителей.
Автор — литературный критик, нон-фикшн редактор группы компаний «Литрес», автор телегам-канала @prochitalanapisala
Позиция редакции может не совпадать с мнением автора