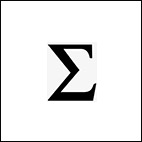
Должна ли современная академическая музыка быть популярной или она может оставаться «исследовательской музыкой для исследователей-энтузиастов»? Влияет ли академическая музыка и авангардное искусство на массовую культуру? В чем отличие романтической музыки от музыки XX века? Что может дать современная академическая музыка внимательному и заинтересованному слушателю? Является ли музыка архитектурой разума и при чем здесь Гуссерль и Лосев? Эти и другие вопросы Юрий Виноградов обсудил с Николаем Хрустом.

Николай Хруст — композитор, импровизатор, саунд-дизайнер и электронный исполнитель. Преподает в МГК им. Чайковского на кафедре современной музыки, является автором ряда оригинальных учебных программ («Инструментарий электроакустический музыки» вместе с А. Наджаровым, «Мультимедийные формы искусства» и др.). Николай Хруст — ученик Владимира Тарнопольского и Татьяны Цареградской.
Юрий Виноградов: Современная академическая музыка — это целый мир со своими законами и смыслами. Иногда возникает ощущение, что этот мир изолирован от массовой культуры и массового же слушателя, что современные сочинения живут, сочиняются, исполняются в своеобразных культурных гетто. Насколько это ощущение соответствует действительности и нужно ли современной академической музыке быть популярной? Быть может, она вполне может оставаться «исследовательской музыкой» для посвятивших себя исследованию самых далеких музыкальных пространств?
Николай Хруст: С одной стороны, академическая музыка в
На мой взгляд, в восприятии современной музыки всегда возможны схватывание и очевидность в гуссерлевском смысле слова: когда человек сталкивается с неизведанным, его восприятие способно охватить новое явление как целостность; при этом сначала отсутствует шаблон для сличения с
Что же до классических музыкантов, то, на мой взгляд, пресловутая изолированность современной академической музыки от других «музык» сильно преувеличена их стараниями. Фигура Карлхайнца Штокхаузена красуется на обложке, возможно, самого известного альбома The Beatles «Клуб одиноких сердец Сержанта Пеппера», хоть и в третьем ряду. Творчество композиторов середины XX века вызвало к жизни такие «авангардные» композиции битлов, как Carnival of Lights, Revolution в разных версиях и вообще повлияло на поздние альбомы группы. Под впечатлением от опусов Кейджа и Берио Маккартни организовал у себя дома студию записи звуковых эффектов, которые потом использовались в звуковых дорожках Битлз. Так идеи конкретной музыки, изобретённой Пьером Шеффером, превратились в
Сам Штокхаузен на своём сайте рецензировал треки, присланные ему ди-джеями. И, конечно, его влияние на всю электронную музыку, в том числе, популярную бесспорно: он вообще создал само течение, названное электронной музыкой. До этого была лишь музыка с участием электронных инструментов, но не было особой эстетики электронной музыки. Сейчас существует такая клубная электроника, которая воплощает в себе идеи тембровой композиции, коллажа и многих других аспектов, впервые опробованных в музыке академической: например, творчество Oval, Autechre, Microstoria, Mark Fell.
111 лет назад Василий Кандинский выпустил брошюру «О духовном в искусстве», где, в частности, он пишет и о музыке. Кроме прочего там дана идея «треугольника», на вершине которого находятся первооткрыватели, а внизу — «ширпотреб». Это было бы банальной идеей, если бы не одно свойство этого треугольника: он движется по отношению к своей вершине. То, что было наверху, постепенно осваивается всё большими группами людей, перемещается ближе к «основанию», пока наконец не окостеневает и не выходит в тираж. То, что было авангардом вчера, сегодня становится «приемлемым», а завтра — общим местом.
Можно сказать, что сегодня пространство музыки гораздо более едино, и переход от «менее инновационной» музыки к «более инновационной» в этом пространстве может происходить плавно. Вопрос лишь в том, как далеко готов зайти слушатель ;)
Действительно, непроницаемых границ между академической и популярной музыкой нет. В общем мире найдется свое место и шутке Баха, и капрису Сальваторе Шаррино, и популярному мотиву. Вы привели интересные и яркие примеры влияния академических идей на популярную музыку. Есть и обратные примеры, скажем, гитарные опусы Гленна Бранки, отдельные сочинения Фаусто Ромителли или же известная ария Мефистофеля, сочиненная в эстрадной манере Шнитке. Действительно, отдельные идеи, методы или образы авангардного искусства проникают в массовую культуру и наоборот, однако не является ли это поверхностным заимствованием? Ведь музыка того же Шёнберга продолжает шокировать консервативно настроенную публику и столетие спустя, она все ещё не стала частью «здравого музыкального смысла».
Любое заимствование можно считать в той или иной степени поверхностным. Конечно, связь с произведениями той же традиции сильнее, чем «диагональные» переходы между традициями. Понятно, что увлечения Мессиана и композиторов Дармштадской школы музыкой Индии вряд ли делают их произведения хоть сколько-нибудь индийскими. Также, когда иранские традиционные музыканты начинают сегодня сочинять новые таснифы (это такой балладный жанр традиционной персидской музыки), в них чувствуется влияние европейской музыки, причём, по большей части, романсовой, что, разумеется, тоже несколько поверхностно.
Однако такие заимствования говорят о том, что нет никакой изоляции, по крайней мере, на уровне слушания музыки. Кроме того, важно, что «высокие жанры» делают приемлемым то, что раньше таковым не считалось. В качестве примера: у меня недавно на «Российской неделе креативных индустрий» на площадке Союза композиторов состоялась забавная дискуссия с двумя саунд-дизайнерами из мира кино. Они очень увлечённо рассказывали, как они создают новые звуки — «шаркают ногой», записывают это на рекодер, и подвергают звук всяким трансформациям. Будучи работниками прикладной сферы, они, однако, критиковали новую академическую музыку за «непонятность» и т.п. Однако, если бы они предъявили эти свои штудии двести лет назад, почтенная публика выгнала бы их взашей: как это шарканье ножкой можно поставить на место великого нашего Бетховена! Шарлатаны какие-то! Если бы господа саунд-дизайнеры предстали перед публикой сто лет назад, то, если бы публика была продвинутой, она отнеслась бы к ним благосклонно. Но все их разговоры про «эмоции» и «понятность» были бы совершенно не восприняты: их бы сочли футуристами. 150-200 лет назад сильные эмоции выражались уменьшённым септаккордом. И только после конкретной музыки (musique concrète) 1940-х, электронной музыки 1950-х гг., электроакустической музыки 1960-х и последующих годов, после тембровой композиции работа с тембром как определяющим элементом в музыке (а не только как с оркестровкой, «одёжкой» для аккордов) стала чем-то приемлемым, нормальным и проложила дорогу саунд-дизайнерам, которые перенесли это в прикладную область.
Что же касается именно Шёнберга, то проблема его восприятия современным слушателем мне видится совсем не в том, в чём она видится «консерваторам». Вынесем последних за скобки: консервативную публику не переубедишь; обычно это люди старшего поколения, получившие музыкальное образование ещё в СССР. Бороться за их внимание не имеет никакого смысла, за исключением тех, у кого «открытые уши»: в конце концов, «имеющие уши да слышат». Практика показывает, что гораздо больше интерес к Новой музыке среди молодых поколений.
Арнольд Шёнберг для людей молодого и среднего возраста действительно может быть трудноват, но вовсе не потому, что он слишком «современный», — наоборот, скорее потому, что его материал слишком уж растёт из позднеромантического, почти кафешантанного. Помню, как композитор и поэтесса Алла Кессельман, преподававшая нам современную музыку в Гнесинском училище, охарактеризовала жанр «Лунного Пьеро» как «чёрное кабаре». Всё-таки сложно избавиться от ощущения, что за типичными Шёнберговскими созвучиями типа тритон+кварта (напр., h-f-b) торчат уши малого септаккорда с пониженной квинтой с задержанием к септиме (скажем, h-d-f-b[→as]), которое просто не разрешается в неё. В схожем ключе претензии Шёнбергу предъявлял Булез ещё в 1952 году в своей бесстыдной статье-некрологе «Шёнберг мёртв». Тогда Булез обвинил великого Нововенца в недостаточной последовательности в изобретённой им серийной технике. Думаю, музыка Шёнберга будет несколько понятнее, если сравнивать её с джазовой гармонией, развивавшейся примерно в то же время. Молодым ребятам, только начинающим постигать музыкальный авангард первой половины прошлого века, я бы рекомендовал начать с музыки Веберна — как более «чистой» и в
Веберн привлекателен своей аскетичность и чистотой, последовательностью метода, его трудно поставить рядом с
Конечно, нуждается. У меня тоже было несколько таких публичных лекций и просветительских проектов, направленных на популяризацию академической музыки XX–XXI веков. Самый продолжительный проект был в Доме Ферганы. Правда, там удалось прочесть только три лекции, зато их видеотрансляцию смотрели в нескольких странах. Любопытно, что тезисы для таких лекций были обкатаны на лекциях для студентов консерватории. Дело в том, что музыканты, хоть и учатся музыке 16–19 лет (!), но почти всё это образование сосредоточено на музыке XVIII–XIX веков. Именно это делает Новую музыку особенно «непонятной» как раз для отечественных классических музыкантов. Если обучаться классицизму-романтизму пятнадцать лет, этот язык начинает казаться априорным, появляется ощущение, что такая музыка «понятна всем», а другая — непонятна. Если столько же времени учиться музыке последних ста лет, уверен, результат будет другим.
В лекциях для студентов приходится деконструировать само понятие «романтизм», чтобы понять, в чём его общие черты и чем он отличается от следующей эпохи. В этом аспекте студенты, которые, казалось бы, уже прошли столь долгий путь обучения, находятся на том же уровне, что и любители, которым предназначены мои популярные лекции. Они, по сути, никогда и не задумывались над тем, что такое классицизм или романтизм в целом, для них приходится делать имплицитное эксплицитным.
То есть начинать с «классиками» приходится с того, что в эпоху романтизма было так, а потом стало по-другому. И «так» было не всегда, а только в XIX веке. И если понять в целом, что такое «так», то и «по-другому» становится легитимным. Поэтому мы начинаем даже не с музыки, а с текстов Шкловского и
Особенно приходится деконструировать романтическую нарративность — вот это «о чём эта музыка» (самый мой «любимый» вопрос). Объяснять, что вот это «о» годится, в основном, для романтизма, когда музыка уподоблялась литературе. А для классицизма она уже малорелевантна (сложно сказать «О чём» Маленькая ночная серенада Моцарта, да и зачем, если она и так прекрасна?). И для XX века это «о» уже не подходит. Для того, чтобы популярно объяснить это отличие от романтизма, я нашёл такую простую формулу: «Музыка XX века — скорее здание, чем рассказ».
Это отличная, как мне кажется, формула. Если это здание, звучащая архитектура, то архитектура чего? Быть может, Новая музыка делает явной саму структуру разума и сознания — своего рода звучащая, явная феноменология? Музыка как звучащая логика? Недаром, как вы подметили, существует синхронность революций в музыке и философии/гуманитарных науках. Первый авангард, Венская школа, додекафония и неоклассицизм в музыке — и феноменология, экзистенциализм, логический позитивизм в гуманитарных науках.
Вы знаете, Ваш вопрос настолько «вкусный», что есть соблазн ответить: да! Учитывая, что многие композиторы увлекались феноменологией (например, Янку Думитреску), а, скажем, спектралист Микаэль Левинас так и просто сын феноменолога Эммануэля Левинаса. Сам я совершенно очарован учением Гуссерля, таким созерцательным и «чистым», очень, на мой взгляд, близким природе музыки и искусства в целом. Так как я не лучший знаток философии, то у меня очень забавный взгляд на философию XX века: мне часто кажется, что она состоит из Гуссерля, а также его позднейших последователей и критиков. Тут я — как студент из того анекдота, который выучил всё про блох и на экзамене про животных отвечал исключительно на тему того водятся ли в них блохи.
Можно вспомнить и Лосева, у которого музыка — «качественное овеществление воплощенного во времени числа» («Музыка как предмет логики»). Кстати, учение Лосева можно считать очень влиятельным в Московской консерватории. Когда-то Алексей Фёдорович преподавал у нас эстетику, а потом наш выдающийся теоретик Юрий Николаевич Холопов стал его учеником. И действительно, строгие категории и идеи, введённые в теорию музыки Холоповым (например, теория интервальных систем и проч.), стали во многом продолжением «эйдетического подхода» к музыке.
Но… всё-таки нет! Мне не хочется давать читателю таких объяснений, чтобы он подумал: «Всё понятно! Романтизм — это про психологию, драму и про любовь, а XX век — про философию и игры разума!» (о этот модный предлог «про», который применяется теперь ко всему чему угодно).
У меня сильное подозрение, что музыкальные структуры, на самом деле — означаемые, а не означающие. Все, кто рассматривал музыку как означающее, потерпели поражение в поиске денотата — от соцреалистов, которые искали в музыке «содержание», до семиотиков: все указывали на «размытость», «денотативную неопределённость». Для того, чтобы пояснить почему музыкальные структуры мне видятся означаемым, можно обратиться к математике. Например, «что означает» равенство e^(iπ)+1=0? Если нельзя сказать, «что оно означает», то можно ли считать математику языком? Можно, если принять, что суть формулы — это новое означаемое, открытое Эйлером, а не символ чего-то за её пределами. Да, конечно, можно многое сказать про существо этого выражения: например, пояснить, что комплексные числа выражают идею вращения и тем самым родственны тригонометрическим функциям, а значит, они связаны, а тождество — частный случай более общей формулы Эйлера, показывающей эту связь. Но
Вот, на мой взгляд, так же и музыка — состоит из открываемых ей самой новых сущностей, которые, строго говоря, нельзя свести ни к философии, ни к логике (хотя и логика, и философия могут попытаться выразить к этим сущностям своё отношение). Поэтому к ней не применимо не только старое обывательское «о», но и новомодное хипстерское «про». Можно говорить про музыку, но сама музыка, на мой взгляд, не говорит про существующий мир, но является сама новым миром, отличным от других и не сводимым к ним.
Тут и Лосев нам не поможет: «музыкальный предмет есть подвижная сплошность и текучая неразличимость», пишет он там же. Так что какая уж тут структура разума)) Ну, то есть это красивая идея о том, что музыка показывает некие априорные структуры, как математика, но… не знаю, не уверен. Наверное, нет) Ну, или, по крайней мере, она ими не ограничивается.
Соответственно, можно считать композиторов своеобразными отважными исследователями музыкального царства, наносящими на карту все новые и новые территории этой безграничности. Но насколько необъятна и неисчерпаема эта безграничность «абсолютного» музыкального царства? Иногда можно услышать мнение, что композиторы XX века, представители авангарда, уже опробовали все возможные оригинальные идеи в музыке, и композиторам нынешнего времени остается лишь рекомбинировать уже бывшее. Однако сейчас появляется и развивается много новых форм музыки: академическая импровизация на границе со свободной импровизацией, генеративная музыка и электроакустическая, использующая новые технологические возможности. Можно ли надеяться на появление «третьего авангарда», рождение какой-то совершенно неслыханной Новейшей музыки, открытие новых территории музыкального?
Ну, вот вы и сами, кажется, ответили на ваш вопрос. Вспоминается одна из самых известных баек в физике — знаменитая речь лорда Кельвина стодвадцатилетней давности, где он сказал, что все проблемы физики решены, кроме лишь двух («ультрафиолетовой катастрофы» и необнаружимости эфира). Конечно, на композитора давит вся история музыки: часто кажется, что никакой другой музыки, кроме той, что уже была, не может быть. И немудрено: ведь музыка прошлого и настоящего — уже есть, а никакой другой ещё пока и нет! Но мы будем надеяться, что это впечатление настолько же ошибочно, насколько был неправ лорд Кельвин.
Да, лорд Кельвин не смог предугадать теорию относительности, квантовую теорию и прочие «повороты», которые преобразили физику до основания.
Для меня современная музыка — это опыт свободы в поисках собственной идентичности, своих смыслов, своих ценностей. Когда понимаешь, что разнообразие форматов слушания и существования музыки соответствует жизненному многообразию, становится труднее мыслить привычными и расхожими стереотипами. На ваш взгляд, что, кроме удовольствия и наслаждения следить за превращением и развитием музыкальных идей, может современная академическая и импровизационная музыка дать слушателю?
Соприкосновение с иным. Новая музыка — это как высадка на Марс.
И это не только «следить за идеями», но и соприкасаться с иной, незнакомой сущностью, явленной в звуке.
Я могу вообразить, что такое соприкосновение позволяет понять, что мир — гораздо более незнакомое, нечеловеческое место, чем кажется, что он полон тайн и загадок, что он не подручное продолжение человека, простой ресурс для удовлетворения его потребностей. И жить в таком необъятном мире-океане — восторг!
Ваш «Микросонет для сопрано и ансамбля с электроникой на текст CLXXI сонета Петрарки» получил награду на 2 Московской арт-премии. Возникает ощущение, что сейчас для русских композиторов появляются новые возможности, которых раньше не было — новые фестивали, новые премии, новые гранты (например, Русская музыка 2.0 и подобные инициативы). Действительно ли русское культурное пространство становится более дружелюбным для современного сочинительства?
Да. И, конечно, мне бы хотелось поблагодарить всех, кто помогал моей музыке существовать и воплощаться. Для меня всё началось с ансамбля Студия новой музыки, возглавляемого моим учителем Владимиром Тарнопольским. Тогда они были одними из немногих, кто шёл вперёд и пробивал бреши. С тех пор, конечно, многое изменилось, возникли новые фестивали и культурные инициативы. Десять лет назад появилась «Платформа», благодаря которой началось наше сотрудничество с Московским ансамблем современной музыки. Для него и певицы Лилии Гайсиной и был написан Микросонет. В прошлом году это сочинение было исполнено под руководством Григория Кротенко на фестивале «Пять вечеров». Благодаря Союзу композиторов и его замечательной команде на последних «Пяти вечерах» мы представили наш новый ансамбль «Король пчёл». Его главная идея — возможно полная интеграция инструментов и электроники в единое звуковое пространство. Конечно, не могу не поблагодарить жюри и организаторов Арт-Премии!
Есть интересные музыкальные инициативы и в театральной среде. Например, в Центре имени Мейерхольда периодически случаются интересные проекты, так или иначе связанные с современной музыкой — например, проект Black Box, одним из первых выпусков которого стала наша мистерия «Сотворение мира», созданная вместе с Натальей Анастасьевой, Анной Колейчук и Мариам Нагайчук-эль-Абдалла. Конечно, нельзя не упомянуть Электротеатр Станиславского, инициативы которого простираются от камерных выступлений в фойе «Электролестницы» до «Макс Блэка», «Сверлийцев» и «Прозы». Театр Станиславского и
Надеюсь, что у Центра электроакустической музыки Московской консерватории скоро появится больше возможностей. Да и мы на кафедре современной музыки продолжаем готовить новых студентов — как композиторов, так и исполнителей — и создавать новые обучающие курсы. В последние годы студенты становятся всё более заинтересованными в современной музыке; а люди — это главный ресурс и двигатель культуры.
Конечно, хотелось бы, чтобы регионы быстрее «подтянулись». Отчасти это происходит благодаря «Композиторским читкам» — региональному проекту Союза композиторов. Приятно видеть, как талантливые ребята, с которыми мы там встречаемся, потом участвуют в разных заметных мероприятиях и исполняются серьёзными ансамблями. Будем надеяться на лучшее!






