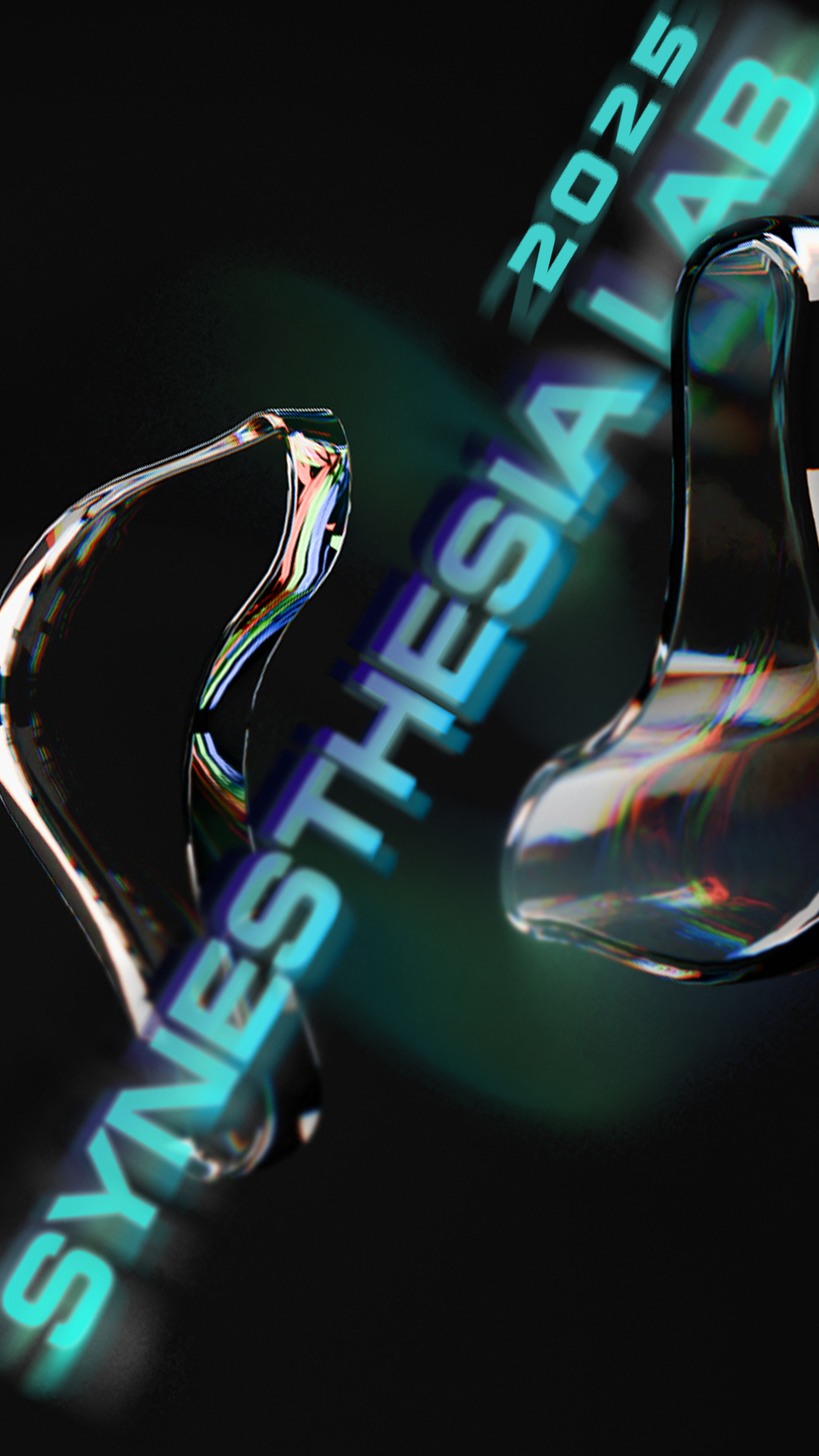01.11.2021
Олег Юрьевич Малов — пианист, профессор Петербургской консерватории, главный исполнитель фортепианных произведений Галины Уствольской. В своей беседе с Евгением Авдеевым для читателей Stravinsky.online он поделился своими воспоминаниями о музыкальном становлении, учителях, приходе к исполнению новой музыки, сложностях во взаимоотношениях с Уствольской и Александром Кнайфелем, а также о некоторых интересных произведениях и исполнениях.
Проект "Старшее поколение" проходит при поддержке Минкультуры России

О ПРИХОДЕ В МУЗЫКУ
ЕА: Олег Юрьевич, вы родились в Горьком (Нижнем Новгороде), а ваше музыкантское становление произошло в Новосибирске. Могли бы вы рассказать про ваши впечатления от преподавания, ваши музыкальные впечатления, когда вы учились в Новосибирске?
ОМ: Вспоминая детство в Горьком, я могу сказать, что у меня осталось сильное ощущение от пластинок Шаляпина, которые собирал мой отец. Патефон, иголочки…
ЕА: А вы там были буквально первые несколько лет жизни…
ОМ: С 51 года. Мне уже было 3,5-4.
ЕА: Это очень раннее воспоминание…
ОМ: Я помню, что моя любимая пластинка была «Февраль» и «Март» Чайковского в исполнении Льва Оборина, 6-я Рапсодия Листа и Эмиль Гилельс — Интродукция и Рондо Каприччиозо — и Давид Ойстрах. Отец любил классическую музыку и меня, как говорится, не надо было уговаривать. Когда отец приходил с работы, я говорил: «Папа, заводи!» (смеётся) Любимая игрушка была — патефон. Шаляпинский репертуар я знал наизусть, и поэтому, если приходили гости, меня ставили на стул, и я Арию Мельника исполнял и за Шаляпина, и за оркестр.
Потом родители поехали в Новосибирск. Им во вновь открывшемся институте дали каждому кафедру. Они были педагогами вуза. Нас было шестеро: дедушка, бабушка, мама, папа и я с братом. Тогда всё-таки было привлекательно: сибирские, квартиру обещают. Было ради чего родной Горький оставить и поехать поднимать страну.
Когда мне было 6, мой папа повёл меня записываться в музыкальную школу. Меня не приняли: «Не берём в 6 лет! Мы сделали исключение только для Лёни Синцева». Ну, отвернули меня… У меня пианино не было. Зимой купили пианино, самое дешёвое — Украина, Чернигов. Отдали меня в частные занятия к старейшему и опытнейшему педагогу в Новосибирске — Любови Сергеевне Молчановой. Я пошёл к ней учиться. До этого отец меня научил нотам на четырёхструнной домре. Болели пальцы, но ноты я уже знал и поэтому, когда учительница начала объяснять, что такое бемоль и диез, я говорил знаки альтерации (картавит на детский манер и смеётся). Дальше всё стало понятно. Я поступил в музыкальную школу и учился у неё 7 лет. Если общее впечатление, она была уже в возрасте, очень близорукая и практически не играющая. Это, конечно, имеет значение, но, по части заинтересованности музыкой — она водила на концерты, она подвела меня в первом классе ко Льву Оборину, и он пожал мне руку после концерта. Какие-то ценности она дала и определила всю мою дальнейшую жизнь. Почему я сюда (в Петербург - Е.А.) приехал — это она определила.
ЕА: То есть у вас вариантов ехать не в Ленинградскую консерваторию и не было?
ОМ: Нет: «Ты должен учиться у Савшинского». В Новосибирск приехал пианист, который у него учился. Я думал, что я хорошо играю, потому что пятёрки ставят (смеётся). Я никогда не видел чтобы руками играли «Мазепу», Второй этюд Шопена, а он это делал блистательно. Выдающийся виртуоз, но рано ушедший… В 54-м году я пошёл в первый класс, в 56-м открылась Новосибирская консерватория. Можете представить: Консерватория в доме 31, 33 — Почтамт, 35 — мой дом. То есть всё, что касается посещения концертов, было блистательным там: каждую неделю в среду точно камерная музыка, в четверг-пятницу — симфонический концерт. Можно идти наверняка — что-то будет. Как правило, и с рекламой всё было нормально. В основном москвичи ездили, конечно. Несколько раз я там слышал Марию Гринберг, Станислава Нейгауза. Одно из самых сильных впечатлений — это Павел Нечепоренко, выдающийся балалаечник — выразительность удивительно невероятная. Цфасман играл «Рапсодию в стиле блюз», свои маленькие пьески. Арнольд Михайлович Кац, замечательный дирижёр, сейчас он легенда Новосибирска, есть оркестр его имени. А я помню как он начинал в первый год — это было замечательно. И, конечно, консерватория обладала замечательным подбором педагогов и играющих пианистов (в основном ленинградцы), и они давали циклы: весь Темперированный клавир, все сонаты Бетховена. Я учился у Евсея Михайловича Зингера, ученика Савшинского. С этого момента, с 15 лет, началось моё фортепианное образование.
ЕА: Когда вы поняли, что Бах-Бетховен-Брамс — это великие музыканты, но есть музыка ещё помимо них?
ОМ: До поры, до времени, моё образование шло, особенно в области распространённой музыки, по части сюжетов. Скажем, 10-я Мимолётность Прокофьева. Я учился первые два года в училище у воспитанника Гольденвейзера. Он мне такой разрисовал сюжет, что по началу я думал, что в этом всё дело и есть.
Затем Зингер меня послушал: «Темперамент вроде бы есть, а больше и ничего». У меня был тот самый случай, когда есть потребность, но нет отрегулированных средств. Зингер сказал правильно: «Я тебе не буду хлопать по плечам, зажатия у тебя не в плечах, а в мозгу, поэтому я дам тебе пьесу, которую ты с поднятыми плечами не сыграешь» (смеётся). Рассчитывал на характер. Как сейчас помню, я играл Аллеманду, op.12 Прокофьева. «Тут голоса идут в разные стороны». «Ты что, всегда анализируешь вот так?». А я думал, что это совершенно естественно, никто меня не учил искать какую-то закономерность. Потом он нашёл пьесу: №2 из трёх посмертных пьес Шуберта. Я начал экспериментировать: сидел высоко, низко. У меня совершенно не было легато, певучего звука. Ещё в музыкальной школе моя учительница прекратила бороться с этим. Играл «Шествие гномов», «Кобольд». Безнадёжно. С годами я убедился что протяжный звук, легато — это не приём, это потребность организма к соединению нот, и надо, чтобы человек почувствовал в этом какую-то прелесть. А в основном музыка — самодостаточная материя. Не надо сюжетов, не нужно сказок. Надо исходя из музыкальных законов делать какие-то выводы, и мой учитель на 4 курсе сказал (через 3 дня был какой-то конкурс современной музыки): «Я видел, у Абрамяна есть 6 прелюдий. Надо взять 3 из них и через 3 дня сыграть». Я говорю: «Как это 3 дня?». «Ничего, иногда полезно». Он как педагог искал, чтобы я всё время зарабатывал характер. Не трудно, но что-то в этом есть: армянская музыка, сочная, в кульминациях. Я к своему удивлению получил первую премию. И с удовольствием играл. Эта такая романтическая современная музыка.
ЕА: А вот та, которую в консерватории не давали? И не могли дать, потому что она была «запрещёнка»?
ОМ: Получилось так, что на выпускной экзамен первый раз выдали обязательную пьесу, то есть все должны были играть либо 3 этюда Ракова, либо первую часть Сонаты Щедрина. Щедрина я играл один. Мне понравилось что есть логика, есть закономерность происходящего. Все играли этюды по нотам, я играл сонату наизусть. Это был такой маленький ход. Раньше у меня было ощущение, где-то на втором курсе училища, когда наши композиторы что-то сочиняли: «Так это же диссонанс!» «Ну и что?» «Более напряжённой гармонии, чем уменьшённый септаккорд в 4-м концерте Рубинштейна быть не может!» Вот, конец. Можно два уменьшённых, три уменьшённых.
Вот я приехал, поступил в Ленинградскую консерваторию, притом что я даже не поинтересовался вступительными требованиями (смеётся). Мне вот поставь такого — наглец! Но! Я приехал на консультацию к Савшинскому, как сейчас помню, 13 июня. Он меня послушал, сказал хорошие слова. «А могу ли я поступить вам в класс?» «Можешь, у меня как раз место есть». «А что для этого нужно?». «Поступить в консерваторию». Конкурс был: поступало примерно 200 человек, а брали где-то 60. Савшинский написал записку, я её до сих пор храню: «Слушал Олега Малова, нахожу его отлично одарённым, согласен принять его в свой класс». Когда родители общались, у них не было никаких надежд: «Куда?». А я спокойно, всё равно. Мне не хватило полбалла на устной гармонии, чтобы пройти без дальнейших экзаменов с отличным дипломом. Там надо было ещё пять пятёрок выстроить под это дело, только тогда можно было на льготы рассчитывать.
ОБ ОПЫТЕ ЗВУКОЗАПИСИ
ЕА: В какой-то момент Гленн Гульд решил что исполнение на записи для него более комфортно и он совершенно перестал давать концерты. У вас было довольно много записей. Каково ваше отношение к живому концерту, где вы ничего не можете исправить а, когда вы делаете запись, стараетесь сделать идеальное исполнение?
ОМ: Я хочу сказать, что моя первая запись состоялась в 76-м году, а вторая в 86-м. Первая запись была Третьей сонатой Уствольской. Только начал: «Стоп! Пискнуло что-то во дворе Капеллы. Машина, видимо». И вот так меня раз пять останавливали. А я стараюсь не выключаться. Потом я понял: когда говорят стоп — выключайся. В общем, я начал забывать текст. Я закончил эту запись по нотам, там были удобные перевороты, но это был большой стресс. «Не буду никогда в жизни записывать, нет!» Потом я это как-то преодолел. Именно потому, что начинаешь чувствовать технологию этого производства и настраиваешься конкретно, а не как на концерт. Помню, буквально на первом курсе консерватории один из учеников Соллертинского предложил мне сыграть в каком-то клубе по рукописи четыре прелюдии Свиридова. Я выучил — слава Богу, не трудно было. Он сказал: «Ну что-ж, за 4 минуты 5 рублей — это неплохо» (смеётся). Это был мой первый гонорар от отдела пропаганды Дома композиторов.
Это было пока всё в русле. Потом дальше я получил заказ: «Можете сыграть ленинградских композиторов?». К этому моменту я уже играл Щербачёва, Дешевова, Мосолова, Гольца.
О ЗНАКОМСТВЕ И ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ГАЛИНОЙ УСТВОЛЬСКОЙ
ЕА: Как вы познакомились с Галиной Уствольской?
ОМ: Мария Всеволодовна Карандашова рекомендовала меня Уствольской. Мне звонит Уствольская: «Здравствуйте, а я вас знаю». «Я вот купил недавно 12 прелюдий ваших. Как-то не очень понимаю их что-то». «Да, это неудачное сочинение» (смеётся). «Я хочу предложить вам исполнить Сонату №3. Её никто и никогда не играл. Написана давно, в 52-ом году». «Хорошо, я готов». Как сейчас помню: там учить было нечего, я в метро посмотрел, полистал. «Галина Ивановна, вообще я считаю, что это музыка для Гленна Гульда». Она была очень удивлена. Мы ещё поговорили, что-то я чуть-чуть поиграл, а в следующий раз я уже сыграл всё с начала до конца. Это трудное сочинение, наизусть трудное: 18 минут. Одно из самых показательных сочинений. Это тот редкий случай, когда соната заканчивается в унисон. А что такое унисон? Это когда кардиограмма выравнивается. Всё. Когда секунды разные, значит, бьётся ещё. В итоге я сыграл удачно премьеру в Малом Зале Филармонии, и тогдашний редактор Ирина Николаевна Семёнова подошла ко мне, тёплые слова сказала и тут же предложила сольный концерт. У меня лауреатств никаких нет. И я начал играть. Мной исполнены практически все произведения Галины Ивановны и записаны, за исключением тех, где нет фортепиано.
В связи с юбилеем Уствольской появилось много интересной литературы, в частности, Андрей Тихомиров написал свои воспоминания о ней. Он называет вещи своими именами: она человек жестокий, бесконечно самовлюблённый, неблагодарный. Хорошо известные мне вещи. Но я уже дополню: элементы садизма у неё очень слышны. В Сонате №5, например нужно играть костяшками пальцев, чтобы слышен был удар косточек на три forte. Один раз сыграешь эти 22 аккорда, и можно уходить на пенсию. Она всё прописывает вот именно так. Во Второй симфонии, например, гобой играет на полтона выше предельной ноты. Я знаю гобоиста, который может это сыграть со специальной аппликатурой, а в Пятой симфонии тубист играет дуэт с трубой в первой октаве. Зачем тубисту? Или в Первой симфонии дети поют: «Наших родителей стреляли в упор»...
ОБ АЛЕКСАНДРЕ КНАЙФЕЛЕ
АЕ: А что вам нравится в музыке Кнайфеля?
ОМ: Очень много. С моей точки зрения, «Глупая лошадь» — это шедевр. Очень люблю его пассакалию, «Кентервильское привидение», её он даже сделал транскрипцию для рояля. Нас связывает 50 лет совместной работы, он мой друг. Он взялся за редактирование своих сочинений, и в подлиннике всё написано с шубертовской простотой. В одной пьесе 5/8, а он делает 2/8 + 3/8 и 3/8 + 2/8. От этого текст разбухает. Ему хочется добиться такой записи, которую будет однозначно трактовать исполнитель. Я ему сказал: «Если исполнитель захочет вникнуть в текст, это он сам сделает, но так это ему просто мешает». Его задача — перфекционизм.
Я повторил его Пассакалию на авторском вечере в консерватории. Кнайфель говорит: «Нет, очень быстро, это было 30 лет назад, и время прошло». И он заставил меня играть в два раза медленнее. Я в итоге как-то сыграл…(вздох) Не хватило меня, что ли: «Дальше кто угодно и как угодно, а я сыграю так, как я играю»… Кнайфель: «Ты же всю жизнь играл Уствольскую, давай каждую ноту!» «Могу! Зачем?». Потом понял, что предельное исполнение перекрывает нормальное музыкантское ощущение. Предельность настолько давит на психику — нехорошее ощущение осталось.
Мы с Татьяной Мелентьевой под его руководством записали несколько песен Айвза. А ещё благодаря нему я осознанно пришёл к христианству, в храм хожу регулярно, какое-то очищение чувствую.
ВСЕМУ СВОЕ ВРЕМЯ
ЕА: А из молодых композиторов, которые, может быть, в консерватории сейчас, вы играете?
ОМ: Сейчас? Нет. Была у меня одна ученица и ученица Тищенко Динара Мазитова, она записала его Первую сонату, совершенно потрясающе. Но что-то дальше не сложилось у неё с карьерой.
Всему своё время. Как говорил мой профессор Натан Ефимович Перельман: «Раньше я много ездил, сейчас больше лежу, читаю». Нужно жить на тот возраст. который ты имеешь. Всё должно быть естественно. За неделю до его смерти я ему позвонил, а он играл Моцарта. Я ему сказал, что он несколько увлекается быстрыми темпами! Сейчас главное не скорость, а содержательность. «Да, я, наверное, несколько погорячился» (смеётся). Ему было 95 лет. Моё счастье, что я столько лет работал рядом с учителем. У Савшинского я учился только три года, но то что я знаю, что определяет меня, это, конечно, Савшинский.
О ВЛИЯНИЯХ И ВПЕЧАТЛЕНИЯХ
ЕА: О каких влияниях на себя вы могли бы рассказать?
ОМ: Это я уже был в аспирантуре, и там моя соученица Ирина Золотова послушала, как я играю 3-ю сонату Уствольской и сказала замечательные слова: я должен сходить и посмотреть «Андрея Рублёва» Тарковского. Там все эти страсти по Андрею, крестность. Это поразительно, при этом ни в коем случае не иллюстрирует, но это какие-то внутренние аналогии устанавливает. Я безумно ей обязан двум вещам. Первая — это Тарковский, а вторая — я увидел у неё ноты фортепианной сонаты Тиграна Мансуряна. Я могу сказать, что в первый раз влюбился в картинку, в текст. Мне так захотелось это играть, а через какое-то время это играл Алексей Любимов. Мы с ним были знакомы: «Лёша, это додекафонное сочинение?». «Ну, первые 12 нот не повторяются». «Ой, я не заметил» (смеётся). Я считаю, что по образованию он академик в области музыки вообще и современной в частности. Я считаю его своим учителем, как и Анатолия Зальмановича Угорского. Угорский рассказывал, как он вычислил в «Структурах» Булеза комбинации. Как он это вычислил? «У меня было время на пляже, я сидел и ...»
АЕ: Вы про Мансуряна даже диссертацию написали.
ОМ: Да, и в то время я переиграл практически всё, что он написал.
АЕ: Я сейчас не вижу его имени в афишах…
ОМ: Он в Америке, к дочке уехал в Калифорнию. В какой-то период мы были очень большие друзья. У него тогда было сложное состояние, но фантазия… Мы репетировали его Вторую виолончельную сонату. «Это вот как кости гниют». Вот такой он был музыкант. Я играл в Ереване два раза концерты в Доме композиторов. Арно Бабаджанян там был, как и все ведущие композиторы Армении. Мансурян был учеником Лазаря Сарьяна, главы композиторской школы. Она была колоссальной в Армении: по свободе, по раскованности. У нас всё академично.
АЕ: А можете посоветовать несколько произведений Мансуряна, чтобы послушать?
ОМ: Соната №1, Соната №2 для виолончели и фортепиано, Три пьесы в густых тонах (тогда он повернулся от свободной серийности к бартокианству). Гаврилин как-то обещал что-то сочинить, но видимо было не суждено. А потом пошли симфонии Уствольской, я везде участвовал. Моё имя связано с ней.
АЕ: А вы играли кого-то из тех, до кого было сложно добраться, не советских, а западных композиторов?
ОМ: Для меня был большим событием концерт Алексея Любимова в Доме композиторов. Он сыграл всю Новую Венскую школу наизусть от и до: и сонату Берга, и все опусы Шёнберга, и вариации Веберна. Но, я должен сказать, что у себя не очень это представляю, а, может быть, потому что я уже преподавал, и педагогика забирает силы. Это был изумительный концерт. Билеты строго распространялись. Я был к тому времени свой человек в Доме композиторов. Зал был набит битком. Сильнейшее впечатление.
В Филармонии я играл Шёнберга: ор.11, ор.19, ор.25. Дальше случилось так, что … как говорил мой учитель: «Нельзя быть рабом счастливой находки». Я понял, что с Уствольской 100 процентов попал. Потом когда я в какой-то книге читаю воспоминания её вдовца-мужа, что она приходила со мной заниматься, а он сидел на лавочке (смеётся), мне это смешно. Я просто удачно угадал. Потом стал востребован с музыкой Кнайфеля.
О КОМПОЗИТОРАХ И ИСПОЛНИТЕЛЯХ
АЕ: Какие ещё композиторы вам дороги?
ОМ: Я воспитан на моностилистике Уствольской. Признаюсь честно — не люблю Шнитке. У меня есть сонаты Альфреда Гарриевича, но никакого исполнительского энтузиазма они не вызывают. Он потрясающий моделировщик стилей, но без своего материала.
Явление — это конечно Валентин Васильевич Сильвестров. Удивительно чистый композитор. Я играл его «Китч-музыку» и Третью сонату. Вторую сонату, мне кажется, лучше Любимова уже никто не сыграет.
Недавно я слушал в Доме Радио концерт Вадима Холоденко. Там стоял итальянский рояль Fazioli. Он играл вариации Фредерика Ржевски. Изумительный пианист, я его впервые услышал лет 10 назад. Он играл набор в Кливлендский международный конкурс пианистов. Видно что талант настоящий, но там предпочли московского молодого пианиста, хотя потом он всё же выиграл конкурс.
ЕА: Когда к нам приезжали в редких случаях западные композиторы, с кем-то из них удалось познакомиться?
ОМ: Мне удалось познакомиться сХельмутом Лахенманом. Он мне подарил ноты и, самое интересное, я вошёл к Кнайфелю, а Дьёрдь Куртаг вышел (смеётся).
Замечательные были Дармштадтские курсы, 1992 год. Очень много интересного, сильное впечатление. Ну и Франкфурт, 1992 год. Познакомился со Карлхайнцем Штокхаузеном — белокурых бог, секретарь записывает каждый его вздох, каждую фразу. Величественное впечатление. А вот Джон Кейдж, я помню, что он ходил по консерватории. А для меня самым заметным явлением в 90-е годы был Джордж Крам. И мы с моими ученицами сыграли практически всё. Благодаря его музыке, я и ученицы освоили все основные техники исполнения на рояле за пределами клавиатуры. Macrocosmos III мы сыграли даже дважды. Некий молодой человек хотел мне предложить его сыграть. «У вас ноты есть?» — «Да» — «А вы знаете сколько там ударных?» — «Нет» (смеётся) «48!» Наши партнёры в этом отношении были борцы — всё достали. Мы до часу ночи репетировали в консерватории, в зале, потому что литавры были только там.
Мы не достали только одного инструмента — ногтевого фортепиано (калимба - Е.А.). Но самое интересное, мне его привезли из-за границы, но мы к тому времени уже два разы сыграли. Мы компенсировали их другими средствами. Я эту калимбу в конце концов купил и подарил сыну Сергею, чтобы он свою дочку увлекал. Мы когда играли, были все без ногтей. Сам композитор говорил: «Если вам почему-то не подходит — поменяйте инструмент». 90-е годы — это пик возможного авангарда в Петербурге. Нам давали концерты в Капелле, афиши и репетиции, но это было недолго.
ЕА: А в первый раз за границу вы когда попали?
ОМ: В 89-ом году.
ЕА: И какие были впечатления?
ОМ: Амстердамский фестиваль с Уствольской. Я играл большой дуэт, играл во Второй симфонии, играл три сонаты в отдельном концерте. Это был первый раз широкий показ произведений Уствольской, успех и прочее. Но я понимал, что мне 42 года — поздновато для какой-то дальнейшей карьеры там. Дальше ездил по другим фестивалям. В Дании мне понравился Пер Нёргор. «Ахиллес не догонит черепаху» — вот такое философское произведение. Петерис Васкс ещё понравился, контрабасист по происхождению. Эстонец был из композиторов интересных — Раймо Кангро. Рано умер, к сожалению.
ЕА: Могли бы Вы подсказать молодым исполнителям, как найти свой материал, потому что то что даёт музыкальная школа/училище/консерватория прекрасно, но явно недостаточно?
ОМ: Здесь большую роль играет учитель. Играть терциями, секстами, технику развивать, это понятно. Учителю нужно найти индивидуальность у музыканта, она в любом случае есть. Сейчас программа довольно хорошо составлена, играют Мессиана, Барбера, Шёнберга.